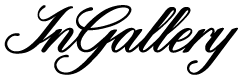Андрей Львович Соловьёв.
Половодье красок и чувств. Интервью.
23.03.2019

Андрей Львович Соловьев – живописец реалистической школы. Правда, сейчас реализм, мягко говоря, несколько вышел из моды. Не в тренде, выражаясь более современным языком. Однако, как бы мощно не наступало нынче современное искусство, реализм свои позиции не собирается сдавать. Ну, а что в конечном счете останется в памяти потомков – рассудит Время.
О себе и своем становлении, о живописи и профессиональном образовании, о красках и оттенках природы Союзу Женских Сил рассказывает художник Андрей Соловьев.
СЖС:
Расскажите, пожалуйста, о своей семье, какую роль она сыграла в вашей судьбе.
А.С.: Я родился в семье художников недалеко от Масловки, где испокон веков собиралась интеллигенция, так что с раннего детства меня окружала творческая атмосфера. С Масловки хорошо помню Аркадия Пластова, Михаила Ромадина. Моя мать Мария Александровна Модорова, и отец Лев Николаевич Соловьев – оба были художниками, членами МОСХа. Рисовать я начал сколько себя помню, и мама бережно сохранила все детские рисунки. Правда, отец очень хотел, чтобы я стал моряком, но гены есть гены, так что в 1949 году я поступил в художественную школу. После войны она была в столице единственной и весьма престижной – конкурс 20 человек на место, а учились в ней дети со всего Союза, поэтому при школе работал интернат. Она находилась напротив Третьяковски, в которую мы бегали при первой же возможности. Конечно, моим первым учителем был отец, и ему я обязан всем, да и школа тоже заложила основы культуры, понимание азов искусства. Так что и в «Суриковку» я поступил без труда, хотя конкурс тоже был огромный. Ведь вместе с нами поступали фронтовики, а их принимали вне всякого конкурса.
СЖС: В Суриковском было интересно?
А.С.: Относительно, так сказать. Ведь институт не делает из вас художника, он просто дает основы художественной грамоты, не более. В общем, высшее образование – «корочки». А дальше надо развиваться, работать. Искать свою тему и т.д.
СЖС: И Вы ее нашли?
А.С: Не сразу, конечно. Понимаете, тогда никакой специализации в Суриковском не было, неважно, что у тебя идет больше – пейзаж, натюрморт, графика, а дипломная работа – это как ни крути станковая картина. Тогда весь Манеж был просто-таки завален станковой живописью огромных размеров, (картины приходилось перевозить на грузовиках), и среди художников бытовал термин – «Манежная живопись». Свою дипломную работу я писал в деревне, она так и называлась «Деревенская семья за столом». Защитился. Вышел из института – и пустота. Но меня всегда поддерживал отец. Если бы не он, ничего бы из меня не вышло. Да и вообще я везунчик. Мне удалось сразу после института попасть на выставку. Еще в институте бразовался такой костяк из десяти человек, и мы в 1964-м выставились в Москве на улице Вавилова. Тогда ведь все четко было: московская выставка, потом республиканская и всесоюзная. Такая своеобразная «лесенка». Вот мы прошли эту «лесенку», и меня вместе с другими участниками приняли в Московский союз художников. Вообще я участвовал в трех групповых выставках в Москве, в 1974-м была серьезная выставка на Кузнецом, потом «Родные просторы», вместе с отцом тоже выставлялся, а уж сколько было рядовых выставок, трудно и сосчитать. Чем были хороши ежегодные профессиональные выставки? Все было видно, кто как работает. И для молодежи полезно было взглянуть на работы маститых авторов, и для упертых стариков – тоже, поскольку после выставок они иначе начинали смотреть на творчество молодежи.
СЖС: Выставка – это здорово, но ведь это ж дорогое удовольствие.
А.С.: Тогда это было бесплатно. Художники ничего не платили, но и нам не платили. Хотите спросить, на что же мы жили. Был в то время такой Комбинат живописного искусства Московского отделения Художественного фонда РСФСР, который существовал до 1991 года. При нем действовал художественный совет, который распределял заказы. Давали не то, что ты хочешь, мы брали то, что дадут. Заказ надо было заслужить. Я был не из худших, так что мне не раз поручали большие серьезные картины.
СЖС: Так вы работали по заказу?
А.С.: Не вижу в этом ничего предосудительного. Я написал очень много станковых портретов, в которых требовалось и мастерство, и умение рисовать, и чтобы было портретное сходство. Причем заказы были в основном с выездом в самые разные места, так что объездил я всю Россию от Калининграда до Сахалина. И публика попадалась самая разнообразная. Все время работал с людьми. Считаю, что и современные художники должны уметь выполнять заказ. Это просто уровень профессионализма. А если Вам говорят, что вот ты работал не по вдохновению, а по заказу, то ты, мол, не художник, а чуть ли не ремесленник. Не верьте. Ерунда это все.
СЖС: А можно так сказать, что работа художника – это ремесло?
А.С.: Почему нет? Загляните в словарь, как там определяют ремесло. Работа, требующая специальных навыков. Это твоя профессия, твое занятие.
СЖС: Но есть и другое определение: вроде как работа по шаблону без творческой инициативы.
А.С.: Игра слов! Ремесленные непрофессиональные работы, этакие «безвкусицы» всегда видно. Сейчас в богатеньких особняках «новых русских» их полно. Они же нередко покупают живопись у самодеятельных художников по знакомству, кто-то шепнул, что сейчас модно вот это. Ну, и покупают за бешеные деньги. Комбинат живописного искусства работал только с профессионалами, а для нас, художников, это был гарантированный заработок. Я, например, никогда не зарывался – писал одну картину в год. Нет, мне хватало, нищенское существование не влачил. Были еще и заказные работы от Министерства культуры, их выкупали организации, и это тоже был заработок.
СЖС: Что это мы с вами все про заработки да про заказы! А что ж вам больше было по душе, что входило в сферу ваших личных творческих интересов?
А.С.: А для души у меня была и есть моя Никулиха, что на границе Владимирской и Ивановской областей. Мстерский край, знаменитый своими промыслами. Здесь жили раскулаченные потомственные крестьяне. И у нас там был свой дом, куда мы ездили семьей. Всего в Никулихе было 12 срубов – с одной стороны Клязьма, с другой – леса и болота. У нас дом стоял крайний в деревне. Выходишь, садишься в лодку-ботик. Вот я садился в ботик и шел 15 километров до самой Мстеры по воде. Так что все мои основные вещи написаны в Никулихе. А какие рядом деревни, села, какие названия! Глушица, Семынь, Пустынь, Брюховая. Была даже в пяти километрах от Никулихи деревня Ялта, которую тоже раскулаченные крестьяне выстроили. В половодье Никулиха превращалась в остров – ни проехать, ни пройти.
СЖС: Как же вы добирались туда?
А.С.: Мы обычно приезжали в Никулиху из Вязников в конце апреля, и раньше по Клязьме ходил смешной лопастной пароходик, который назывался «Робеспьер». Вот он часа три-четыре и плюхался до Никулихи, мог даже сесть на мель. Уже потом стал ходить катер «Зарница». Гениальное время было. И вот где-то с 25 апреля по 10 мая самое время писать половодье. Буквально две недели. Если не успеешь, то все – пиши пропало. Потом начиналась такая «зеленая каша».
СЖС: Так вам нравятся переходные состояния природа – от зимы к весне, от весны к лету?
А.С.: Именно так! Своеобразное пограничное состояние природы, когда все в движении, все только начинается, когда набухают почки. Как будто впереди неизвестность. Почему конец зимы, начало весны так чудесны? Да потому что такие переходные «сцены жизни» несут с собой обновление, причем каждый год абсолютно новое и непредсказуемое. В это время даже воздух необыкновенный, и, если написать это идущее с небес движение стихии – да, это счастье! Только поди ж улови его, ухвати. Поймать такие мгновения удается крайне редко. Живопись вообще штука капризная – ей надо служить, ее надо беззаветно любить. А если нет восторга перед тем, что видишь и пишешь… Мне приходилось порой писать очень быстро, три-четыре часа, но я мог за один сеанс обработать большой холст, как говорится «от корки до корки».
СЖС: Хорошо, конец зимы, половодье, начало весны, лесные дали – понимаю, здесь вы в своей стихии. В восторге, как вы сказали. И это не по заказу, а по велению души. Но ведь вы много говорили и о том, что надо уметь писать и по заказу. А там как же быть с восторгом? Не все же «герои» вам, наверное, нравились…
А.С.: Хотите поймать на слове? Так ведь «аппетит приходит во время еды», не так ли? Находишь нужный ракурс, улавливаешь характер – и работа, что называется, «идет». Нельзя делать лишь одно – писать просто так. Я, не скрою, терпеть не могут писать натюрморты. Хотя все равно писал и рыболовные, и охотничьи натюрморты, с натуры, в деревне. Это мне нравилось. Многие из них побывали на выставках и все ушли. Знаете, некоторые работы мне было жалко отдавать, а о каких-то и не вспоминал. Всегда что-то удавалось больше, что-то меньше.
СЖС: А что еще вы не любите писать?
А.Л.: Открытое солнце. Оно для меня слишком лобовое, чересчур жаркое. А в живописи должна быть какая-то тайна, какая-то «изюминка». Недосказанность. Дымка. Одному моему приятелю нравились мои работы. Он говорил: да, живопись хорошая, но не хватает какой-то «чертовщинки». И объяснял: вот у тебя чащобы, деревья, лесные тропинки, все здорово, так нарисовал бы где-то венский стул, русалочку, черта, наконец, — вот и чертовщинка! Появится, якобы, интрига, тайна. А вместе с интригой появится и успех.
СЖС: Но вас венский стул в чащобе, как я понимаю, совсем не интересует.
А.С.: Для меня это чушь собачья. Неприемлемо. Я реалист, хотя в природе – согласен – множество необъяснимых и непонятных вещей.
СЖС: Давайте вернемся к вашей любимой воде. Мстерский край, конечно же, необыкновенный. А моря тоже писали?
А.С.: А как же! Я же после 3 и 4 курсов института был на практике на флоте и ходил в каботажное плавание от Питера до Кенигсберга, который в 1954-м еще лежал в руинах. Побывал в Таллинне, в Балтийске, маленьком городишке в одну улицу. И море писал, и портреты. Один портрет я показал на выставке, посвященной 30-летию МОСХа, и его тут же взяли в Третьяковку. Это портрет заслуженного летчика-полярника, хотя его фамилию я сейчас не помню. Он прошел всю войну, бомбил Берлин, наград полный «иконостас». Лицо у него было неинтересное, какое-то прямоугольное, полно специфических морщин, поскольку много летал в жуткие морозы, глубоко посаженные глаза. Я работал над этим портретом с удовольствием.
СЖС: У вас есть любимые художники?
А.С.: Конечно! Исаак Левитан, Иван Шишкин. Левитан – настоящий пейзажист, и все его полотна сугубо образные. Шишкин – большой мастер. Уважал Илью Глазунова, который создал Академию художеств и поддерживал ее. Современных художников я, откровенно говоря, не очень хорошо знаю. Знаю только, что моя alma mater Суриковка превратилась в «институт благородных девиц». Ведь в этом году, например, почти одних девчонок набрали. Смешно, ей-Богу! Труд художника требует массу энергии, потому живопись по большей части дело мужское. Конечно, есть прекрасные женщины-художники, но их единицы.
СЖС: А к современному искусству как относитесь?
А.С.: Сложный вопрос. Если я отвечу, что никак, то это, наверное, не совсем корректный ответ. Надо ж пояснить. Вот представьте себе, что вы смотрите на абстракцию, которую можно повесить как угодно. Что вы там видите? Вы ответите: то, что хотите, как это видит ваше воображение (?!). И все же позволю заметить, что абстракция чаще всего совсем не живопись.
СЖС: Но ведь вы же не можете полностью отрицать ни абстрактное искусство, ни концептуальное. Они существуют наряду со старыми мастерами.
А.С.: А я и не отрицаю. Я просто не принимаю, хотя искренне стараюсь понять.
СЖС: Вы упоминали о том, что вам жаль некоторых своих работ, которые ушли. А какую работу больше всего жаль, помните?
А.С.: Помню. Но это не моя картина – отца. У него была небольшая работа 50х60 – старый Белорусский вокзал, мост, а еще там был бульвар, по которому мы с мамой шли 9 мая 1945 года на парад. Ведь части, участвовавшие в параде Победы, стояли во дворах в районе метро Динамо, и я помню этих солдат и папину картину. Это даже не ностальгия, нет, это возвращающаяся память прошлого, которая настигает каждого, только каждого в его собственное время…
СЖС: Спасибо за беседу и дальнейшего желания писать ваше такое узнаваемое половодье и весенние «короткие» пейзажи.
Интервьюер и автор текста: Галина Мумрикова
О себе и своем становлении, о живописи и профессиональном образовании, о красках и оттенках природы Союзу Женских Сил рассказывает художник Андрей Соловьев.
СЖС:
Расскажите, пожалуйста, о своей семье, какую роль она сыграла в вашей судьбе.
А.С.: Я родился в семье художников недалеко от Масловки, где испокон веков собиралась интеллигенция, так что с раннего детства меня окружала творческая атмосфера. С Масловки хорошо помню Аркадия Пластова, Михаила Ромадина. Моя мать Мария Александровна Модорова, и отец Лев Николаевич Соловьев – оба были художниками, членами МОСХа. Рисовать я начал сколько себя помню, и мама бережно сохранила все детские рисунки. Правда, отец очень хотел, чтобы я стал моряком, но гены есть гены, так что в 1949 году я поступил в художественную школу. После войны она была в столице единственной и весьма престижной – конкурс 20 человек на место, а учились в ней дети со всего Союза, поэтому при школе работал интернат. Она находилась напротив Третьяковски, в которую мы бегали при первой же возможности. Конечно, моим первым учителем был отец, и ему я обязан всем, да и школа тоже заложила основы культуры, понимание азов искусства. Так что и в «Суриковку» я поступил без труда, хотя конкурс тоже был огромный. Ведь вместе с нами поступали фронтовики, а их принимали вне всякого конкурса.
СЖС: В Суриковском было интересно?
А.С.: Относительно, так сказать. Ведь институт не делает из вас художника, он просто дает основы художественной грамоты, не более. В общем, высшее образование – «корочки». А дальше надо развиваться, работать. Искать свою тему и т.д.
СЖС: И Вы ее нашли?
А.С: Не сразу, конечно. Понимаете, тогда никакой специализации в Суриковском не было, неважно, что у тебя идет больше – пейзаж, натюрморт, графика, а дипломная работа – это как ни крути станковая картина. Тогда весь Манеж был просто-таки завален станковой живописью огромных размеров, (картины приходилось перевозить на грузовиках), и среди художников бытовал термин – «Манежная живопись». Свою дипломную работу я писал в деревне, она так и называлась «Деревенская семья за столом». Защитился. Вышел из института – и пустота. Но меня всегда поддерживал отец. Если бы не он, ничего бы из меня не вышло. Да и вообще я везунчик. Мне удалось сразу после института попасть на выставку. Еще в институте бразовался такой костяк из десяти человек, и мы в 1964-м выставились в Москве на улице Вавилова. Тогда ведь все четко было: московская выставка, потом республиканская и всесоюзная. Такая своеобразная «лесенка». Вот мы прошли эту «лесенку», и меня вместе с другими участниками приняли в Московский союз художников. Вообще я участвовал в трех групповых выставках в Москве, в 1974-м была серьезная выставка на Кузнецом, потом «Родные просторы», вместе с отцом тоже выставлялся, а уж сколько было рядовых выставок, трудно и сосчитать. Чем были хороши ежегодные профессиональные выставки? Все было видно, кто как работает. И для молодежи полезно было взглянуть на работы маститых авторов, и для упертых стариков – тоже, поскольку после выставок они иначе начинали смотреть на творчество молодежи.
СЖС: Выставка – это здорово, но ведь это ж дорогое удовольствие.
А.С.: Тогда это было бесплатно. Художники ничего не платили, но и нам не платили. Хотите спросить, на что же мы жили. Был в то время такой Комбинат живописного искусства Московского отделения Художественного фонда РСФСР, который существовал до 1991 года. При нем действовал художественный совет, который распределял заказы. Давали не то, что ты хочешь, мы брали то, что дадут. Заказ надо было заслужить. Я был не из худших, так что мне не раз поручали большие серьезные картины.
СЖС: Так вы работали по заказу?
А.С.: Не вижу в этом ничего предосудительного. Я написал очень много станковых портретов, в которых требовалось и мастерство, и умение рисовать, и чтобы было портретное сходство. Причем заказы были в основном с выездом в самые разные места, так что объездил я всю Россию от Калининграда до Сахалина. И публика попадалась самая разнообразная. Все время работал с людьми. Считаю, что и современные художники должны уметь выполнять заказ. Это просто уровень профессионализма. А если Вам говорят, что вот ты работал не по вдохновению, а по заказу, то ты, мол, не художник, а чуть ли не ремесленник. Не верьте. Ерунда это все.
СЖС: А можно так сказать, что работа художника – это ремесло?
А.С.: Почему нет? Загляните в словарь, как там определяют ремесло. Работа, требующая специальных навыков. Это твоя профессия, твое занятие.
СЖС: Но есть и другое определение: вроде как работа по шаблону без творческой инициативы.
А.С.: Игра слов! Ремесленные непрофессиональные работы, этакие «безвкусицы» всегда видно. Сейчас в богатеньких особняках «новых русских» их полно. Они же нередко покупают живопись у самодеятельных художников по знакомству, кто-то шепнул, что сейчас модно вот это. Ну, и покупают за бешеные деньги. Комбинат живописного искусства работал только с профессионалами, а для нас, художников, это был гарантированный заработок. Я, например, никогда не зарывался – писал одну картину в год. Нет, мне хватало, нищенское существование не влачил. Были еще и заказные работы от Министерства культуры, их выкупали организации, и это тоже был заработок.
СЖС: Что это мы с вами все про заработки да про заказы! А что ж вам больше было по душе, что входило в сферу ваших личных творческих интересов?
А.С.: А для души у меня была и есть моя Никулиха, что на границе Владимирской и Ивановской областей. Мстерский край, знаменитый своими промыслами. Здесь жили раскулаченные потомственные крестьяне. И у нас там был свой дом, куда мы ездили семьей. Всего в Никулихе было 12 срубов – с одной стороны Клязьма, с другой – леса и болота. У нас дом стоял крайний в деревне. Выходишь, садишься в лодку-ботик. Вот я садился в ботик и шел 15 километров до самой Мстеры по воде. Так что все мои основные вещи написаны в Никулихе. А какие рядом деревни, села, какие названия! Глушица, Семынь, Пустынь, Брюховая. Была даже в пяти километрах от Никулихи деревня Ялта, которую тоже раскулаченные крестьяне выстроили. В половодье Никулиха превращалась в остров – ни проехать, ни пройти.
СЖС: Как же вы добирались туда?
А.С.: Мы обычно приезжали в Никулиху из Вязников в конце апреля, и раньше по Клязьме ходил смешной лопастной пароходик, который назывался «Робеспьер». Вот он часа три-четыре и плюхался до Никулихи, мог даже сесть на мель. Уже потом стал ходить катер «Зарница». Гениальное время было. И вот где-то с 25 апреля по 10 мая самое время писать половодье. Буквально две недели. Если не успеешь, то все – пиши пропало. Потом начиналась такая «зеленая каша».
СЖС: Так вам нравятся переходные состояния природа – от зимы к весне, от весны к лету?
А.С.: Именно так! Своеобразное пограничное состояние природы, когда все в движении, все только начинается, когда набухают почки. Как будто впереди неизвестность. Почему конец зимы, начало весны так чудесны? Да потому что такие переходные «сцены жизни» несут с собой обновление, причем каждый год абсолютно новое и непредсказуемое. В это время даже воздух необыкновенный, и, если написать это идущее с небес движение стихии – да, это счастье! Только поди ж улови его, ухвати. Поймать такие мгновения удается крайне редко. Живопись вообще штука капризная – ей надо служить, ее надо беззаветно любить. А если нет восторга перед тем, что видишь и пишешь… Мне приходилось порой писать очень быстро, три-четыре часа, но я мог за один сеанс обработать большой холст, как говорится «от корки до корки».
СЖС: Хорошо, конец зимы, половодье, начало весны, лесные дали – понимаю, здесь вы в своей стихии. В восторге, как вы сказали. И это не по заказу, а по велению души. Но ведь вы много говорили и о том, что надо уметь писать и по заказу. А там как же быть с восторгом? Не все же «герои» вам, наверное, нравились…
А.С.: Хотите поймать на слове? Так ведь «аппетит приходит во время еды», не так ли? Находишь нужный ракурс, улавливаешь характер – и работа, что называется, «идет». Нельзя делать лишь одно – писать просто так. Я, не скрою, терпеть не могут писать натюрморты. Хотя все равно писал и рыболовные, и охотничьи натюрморты, с натуры, в деревне. Это мне нравилось. Многие из них побывали на выставках и все ушли. Знаете, некоторые работы мне было жалко отдавать, а о каких-то и не вспоминал. Всегда что-то удавалось больше, что-то меньше.
СЖС: А что еще вы не любите писать?
А.Л.: Открытое солнце. Оно для меня слишком лобовое, чересчур жаркое. А в живописи должна быть какая-то тайна, какая-то «изюминка». Недосказанность. Дымка. Одному моему приятелю нравились мои работы. Он говорил: да, живопись хорошая, но не хватает какой-то «чертовщинки». И объяснял: вот у тебя чащобы, деревья, лесные тропинки, все здорово, так нарисовал бы где-то венский стул, русалочку, черта, наконец, — вот и чертовщинка! Появится, якобы, интрига, тайна. А вместе с интригой появится и успех.
СЖС: Но вас венский стул в чащобе, как я понимаю, совсем не интересует.
А.С.: Для меня это чушь собачья. Неприемлемо. Я реалист, хотя в природе – согласен – множество необъяснимых и непонятных вещей.
СЖС: Давайте вернемся к вашей любимой воде. Мстерский край, конечно же, необыкновенный. А моря тоже писали?
А.С.: А как же! Я же после 3 и 4 курсов института был на практике на флоте и ходил в каботажное плавание от Питера до Кенигсберга, который в 1954-м еще лежал в руинах. Побывал в Таллинне, в Балтийске, маленьком городишке в одну улицу. И море писал, и портреты. Один портрет я показал на выставке, посвященной 30-летию МОСХа, и его тут же взяли в Третьяковку. Это портрет заслуженного летчика-полярника, хотя его фамилию я сейчас не помню. Он прошел всю войну, бомбил Берлин, наград полный «иконостас». Лицо у него было неинтересное, какое-то прямоугольное, полно специфических морщин, поскольку много летал в жуткие морозы, глубоко посаженные глаза. Я работал над этим портретом с удовольствием.
СЖС: У вас есть любимые художники?
А.С.: Конечно! Исаак Левитан, Иван Шишкин. Левитан – настоящий пейзажист, и все его полотна сугубо образные. Шишкин – большой мастер. Уважал Илью Глазунова, который создал Академию художеств и поддерживал ее. Современных художников я, откровенно говоря, не очень хорошо знаю. Знаю только, что моя alma mater Суриковка превратилась в «институт благородных девиц». Ведь в этом году, например, почти одних девчонок набрали. Смешно, ей-Богу! Труд художника требует массу энергии, потому живопись по большей части дело мужское. Конечно, есть прекрасные женщины-художники, но их единицы.
СЖС: А к современному искусству как относитесь?
А.С.: Сложный вопрос. Если я отвечу, что никак, то это, наверное, не совсем корректный ответ. Надо ж пояснить. Вот представьте себе, что вы смотрите на абстракцию, которую можно повесить как угодно. Что вы там видите? Вы ответите: то, что хотите, как это видит ваше воображение (?!). И все же позволю заметить, что абстракция чаще всего совсем не живопись.
СЖС: Но ведь вы же не можете полностью отрицать ни абстрактное искусство, ни концептуальное. Они существуют наряду со старыми мастерами.
А.С.: А я и не отрицаю. Я просто не принимаю, хотя искренне стараюсь понять.
СЖС: Вы упоминали о том, что вам жаль некоторых своих работ, которые ушли. А какую работу больше всего жаль, помните?
А.С.: Помню. Но это не моя картина – отца. У него была небольшая работа 50х60 – старый Белорусский вокзал, мост, а еще там был бульвар, по которому мы с мамой шли 9 мая 1945 года на парад. Ведь части, участвовавшие в параде Победы, стояли во дворах в районе метро Динамо, и я помню этих солдат и папину картину. Это даже не ностальгия, нет, это возвращающаяся память прошлого, которая настигает каждого, только каждого в его собственное время…
СЖС: Спасибо за беседу и дальнейшего желания писать ваше такое узнаваемое половодье и весенние «короткие» пейзажи.
Интервьюер и автор текста: Галина Мумрикова